С нашей точки зрения более интересным представляется использование старинных материалов для того, чтобы сконструировать изобретенную традицию нового типа, служащую новым целям. Большие запасы таких материалов накоплены всяким обществом, хорошо разработанный язык символической практики и коммуникации всегда доступен. Иногда новые традиции могут быть легко привиты к старым; иногда они вырабатываются с помощью заимствований из доверху наполненных хранилищ официального ритуала, символизма и моральной проповеди, оставленных религией, королевским двором, фольклором и масонством (последнее само было поначалу изобретенной традицией большой символической силы). Рассмотрим развитие швейцарского национализма, по времени (XIX век) совпавшее с формированием современного федеративного государства. Оно было блестяще исследовано Рудольфом Брауном, обладавшим особым преимуществом — знанием этнологии (Volkskunde), очень подходящей для таких исследований. Благо изучал он ее в стране, в которой процесс обновления этой дисциплины не был отброшен назад как в Германии, где она попала в идеологическую связку с преступлениями нацистов. Существовавшие обычные традиционные практики — исполнение народных песен, физические состязания, стрельбы — были модернизированы, ритуализированы и институционализированы таким образом, чтобы служить новым национальным задачам. Традиционный песенный фольклор был пополнен новыми песнями, зачастую сочиненными школьными учителями с использованием старых идиом и затем включавшимися в репертуары хоров. Содержание их было патриотически-прогрессистское («Нация, нация — как славно звучит это слово!» ), хотя в нем нашлось место и явно ритуальным элементам из религиозных гимнов. Положение о Федеральном песенном фестивале — не напоминает ли оно нам о валлийских музыкально-поэтических состязаниях, — провозглашает, что целью его является «развитие и улучшение народного пения, пробуждение возвышенных чувств к Богу, Свободе и Стране, союз и побратимство друзей Искусства и Родины». (Слово «улучшение» как раз и отражает столь характерное для XIX века стремление к «прогрессу».)
Вокруг и по поводу фестиваля сформировался мощный ритуальный комплекс: фестивальные павильоны, сооружения для подъема и вывешивания флагов, храмики для пожертвований, процессии, колокольные звоны, живые картины, оружейные салюты, правительственные делегации, приветствующие участников, обеды, тосты, оратории... И для всего этого опять были использованы старые материалы.
В этой новой фестивальной архитектуре несомненны отзвуки барочных празднеств и представлений, барочной пышности. И как на празднествах времен барокко, государство и церковь сливаются на высшем уровне, так что сплав религиозных и патриотических элементов заявляет о себе и в этих новых формах хорового пения, стрельбы и гимнастических состязаний.
Здесь мы не будем обсуждать, сколь много новые традиции могут заимствовать из старых материалов, столь далеко заходят творцы традиций в процессе изобретения нового языка или символа, насколько они при этом преступают допустимые пределы использования старого словаря символов. Ясно только, что из-за изобилия политических институтов, идеологических движений и групп — не в последнюю очередь националистических — приходилось изобретать саму историческую преемственность, например, путем продления древнего прошлого за пределы его действительной исторической протяженности. Делалось это либо с помощью полувыдумки-полуправды (вспомним о Боадицее, Верцингеториксе, хевруске Арминиусе), либо с помощью подделок (Оссиан, чешские средневековые рукописи). Ясно также, что вместе с национальными движениями и государствами возникли и совершенно новые символы и эмблемы: государственные гимны (самый ранний из них — британский, появившийся в 1740 году), государственные флаги (в большинстве своем представляющие собой различные вариации на тему французского триколора, оформившегося в 1790—1794 годах) или же различные персонификации «нации» в символе или изображении, либо официально принятые, как французская Марианна и дева Германия, либо неофициальные, как карикатурные стереотипы Джона Булля, тощего янки Дяди Сэма и «немца Михеля». Не должны мы упускать из виду и такую примечательную особенность, как разрыв в преемственности. Так, он виден иногда даже в самых, казалось бы, традиционных, избитых литературных жанрах, в общих местах (topoi), уходящих корнями в подлинную древность. Если прав Ллойд, то в Англии рождественские гимны перестали создаваться с XVII века: их заменили книжные сборники гимнов в духе сочинений Уоттса и Уэлсли (правда, известны и народные модификации последних, бытовавшие преимущественно в сельской местности среди ранних методистских сект). Тем не менее гимны оказались первой разновидностью песенного фольклора, возрожденной собирателями из средних, классов, и именно им предстояло занять свое место «в прежде не существовавшем окружении из церковных, профессиональных и женских институтов». А уже оттуда усилиями «уличных певцов или безголосых мальчишек, распевающих у дверей в вечной надежде на вознаграждение», они распространились в новой народной городской среде. С этой точки зрения фраза «Бог да вознаградит вас, джентльмены» настолько же старая, насколько и новая. Подобные же разрывы в преемственности отличают и те движения, что сознательно подают себя как «традиционалистские» и апеллируют к группам, всеми признаваемыми за хранителей исторической преемственности и традиции, например к крестьянам. На деле само появление движения в защиту или за возрождение традиции, будь оно «традиционалистским» или каким-то другим, указывает на нарушение преемственности. Причем движения эти, со времен романтизма увлекающие интеллигенцию, никогда не развивают и даже не сохраняют живое прошлое (понятно, за исключением тех случаев, когда учреждаются специальные природно-человеческие убежища в виде изолированных уголков архаической жизни) — они должны стать «изобретенной традицией». С другой стороны, сила и приспособляемость подлинных традиций не зависят от процесса «изобретения традиции». Где живы старые формы жизни, нет нужды ни в возрождении, ни в изобретении традиций.
В то же время следует иметь в виду, что там, где традиции изобретаются, это зачастую делается не потому, что старые формы больше нежизненны или недоступны, а потому, что их сознательно не используют и не приспосабливают к новым условиям. Так, в XIX веке либеральная идеология общественных перемен, ратовавшая за разрыв с традицией и радикальное обновление общества, не смогла создать ничего подобного социальным и властным связям, которые в предшествующие эпохи считались чем-то само собой разумеющимся, и вынуждена была заполнять образовавшийся вакуум вновь изобретенными установлениями. В отличие от либералов фабриканты-тори Ланкашира вполне преуспели в использовании старых связей к своей выгоде и тем самым доказали, что эти связи еще действовали в новой среде промышленного города8. Конечно, нельзя было не признать, что в долгосрочной перспективе старые образцы жизни не смогут приспособиться к революционным изменениям в обществе; но такое признание не снимало проблем, возникавших из-за того, что эти образцы отвергались также и на краткосрочную перспективу теми, кто считал их препятствиями на пути прогресса или, того хуже, был их воинствующим противником.
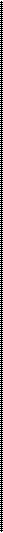 Это не мешало сторонникам нового создавать свои собственные изобретенные традиции. Подходящий пример здесь — масонство. Тем не менее общая враждебность ко всему иррациональному, к предрассудкам и обычаям, если не прямо унаследованным от темного прошлого, то напоминающим о нем, делала нетерпеливых поклонников просветительских идеалов — либералов, социалистов, коммунистов — невосприимчивыми как к старым традициям, так и к новым. Социалисты сами не могли понять, как это у них образовался праздник Первого мая. А вот национал-социалисты эксплуатировали традиции с прямо-таки литургической искушенностью и рвением, сознательно манипулируя символами9. В Британии же в либеральную эпоху их в лучшем случае лишь терпели, делая таким образом вынужденную уступку иррационализму низших классов. Господствующее отношение представляло собой смесь враждебности и терпимости к собраниям и ритуалам, устраивавшимся квакерскими объединениями. «Ненужные» расходы (затраты на процессии, знамена, разного рода регалии)
Это не мешало сторонникам нового создавать свои собственные изобретенные традиции. Подходящий пример здесь — масонство. Тем не менее общая враждебность ко всему иррациональному, к предрассудкам и обычаям, если не прямо унаследованным от темного прошлого, то напоминающим о нем, делала нетерпеливых поклонников просветительских идеалов — либералов, социалистов, коммунистов — невосприимчивыми как к старым традициям, так и к новым. Социалисты сами не могли понять, как это у них образовался праздник Первого мая. А вот национал-социалисты эксплуатировали традиции с прямо-таки литургической искушенностью и рвением, сознательно манипулируя символами9. В Британии же в либеральную эпоху их в лучшем случае лишь терпели, делая таким образом вынужденную уступку иррационализму низших классов. Господствующее отношение представляло собой смесь враждебности и терпимости к собраниям и ритуалам, устраивавшимся квакерскими объединениями. «Ненужные» расходы (затраты на процессии, знамена, разного рода регалии) 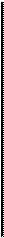 были вообще запрещены по закону. В то же время признавалось, что сами ежегодные празднества запрещать не стоит, поскольку «значительное тяготения к таким мероприятиям, особенно в среде сельского населения, нельзя отрицать»10. Суровый индивидуалистический рационализм господствовал не только в виде экономического расчета, но и как общественный идеал. В главе 7 мы покажем, что произошло, когда его ограниченность стала в возрастающей степени осознаваться.
были вообще запрещены по закону. В то же время признавалось, что сами ежегодные празднества запрещать не стоит, поскольку «значительное тяготения к таким мероприятиям, особенно в среде сельского населения, нельзя отрицать»10. Суровый индивидуалистический рационализм господствовал не только в виде экономического расчета, но и как общественный идеал. В главе 7 мы покажем, что произошло, когда его ограниченность стала в возрастающей степени осознаваться.
Заключим наши вводные замечания несколькими общими наблюдениями по поводу традиций, изобретенных в период, последовавший за промышленной революцией.
Представляется, что традиции эти были трех, отчасти друг на друга накладывающихся, типов. Традиции первого типа устанавливали или символизировали социальную связь, членство в группах, подлинных или искусственных общинах. Традиции второго типа вводили институты, статусы и отношения, обусловленные властью, придавали им «законную» силу. Главной задачей традиций третьего типа была социализация — запечатление в сознании верований, систем ценностей и правил поведения. Хотя среди изобретавшихся определенно присутствовали традиции второго и третьего типа (вроде символизировавших подчинение властям в Британской Индии), в порядке гипотезы можно утверждать, что преобладающими были традиции первого типа. Предполагалось, что функции традиций других типов вытекают из ощущения идентичности с «общиной» и/или внутренне присущи институтам, представлявшим, выражавшим и символизировавшим идентичность с «нацией».
Сложность заключалась в том, что такие большие социальные общности, как «нация», явно не были органическими системами (Gemeinschafien), ни даже системами общепринятых социальных рангов. На фоне социальной мобильности, классовых конфликтов и господствующей идеологии традициям, сочетавшим в себе коллективизм и выраженное неравенство формальных иерархий (как в армии), было очень непросто утвердить свои притязания на всеобщность. Только традициям третьего типа не особенно мешала эта трудность, так как всеобщая социализация прививала одни и те же ценности каждому гражданину, каждому члену нации, каждому подданному короны. Функционально специфические способы социализации в разных социальных группах (например, в отличной от других учащихся группе учеников закрытых частных школ) обычно тоже не сталкивались между собой. С другой стороны, поскольку изобретенные традиции вводили в мир контракта статус, в мир равенства по закону неравенство высших и низших по положению, они не могли действовать напрямую. Они протаскивали все это контрабандным путем — как, например, при изменении ритуала коронации в Британии — через формальное символическое согласие общества на социальную организацию, предполагающую фактическое неравенство. Следует заметить, что чаще удавалось раздувать дух корпоративного превосходства в элитах (особенно когда их приходилось пополнять из числа тех, кто к ним не принадлежал по рождению и положению), чем прививать чувство покорности низам. Так сказать, некоторые поощрялись чувствовать себя более равными, чем все остальные. Это достигалось посредством уподобления элит добуржуазным правящим или авторитетным группам то в милитаристско-бюрократической форме, характерной для Германии, где образцом послужили общества студентов-дуэлянтов, то по немилитаризованной модели «морального джентри», культивировавшейся в английских частных школах. Корпоративный дух, уверенность в себе и в своем лидерстве могли прививаться и противоположным образом — с помощью более эзотерических «традиций», в которых акцент делался на замкнутость касты высших чиновников (во Франции или среди белых в колониях).
Недостаточно признать, что основным типом изобретенных традиций были традиции коммуналистские — надо еще изучить их природу. Прояснить различия — если таковые имеются — между изобретенными и старыми традициями может антропология. Пока же позволим себе просто заметить, что в то время как в традициях групп, частичных по своему социальному масштабу, как правило, широко представлены ритуалы перехода (инициация, возвышение, отставка, смерть), в традициях псевдообщностей, по замыслу всеобъемлющих (нации, страны), этого обычно не было и главным образом потому, что им предписывался вечный и неизменный характер, как минимум, с момента основания. Но это не означает, что новые политические режимы и обновленческие движения вообще не пытались найти собственные эквиваленты традиционным религиозным ритуалам перехода (свидетельства тому — гражданский брак и гражданские похороны).
Бросается в глаза одно различие между старыми и изобретенными установлениями. Первые были специализированными и сильно обязывающими социальными практиками, вторые же склонны оставаться неспециализированными и не прояснять сущность тех ценностей, прав и обязательств, вытекающих из членства в группе, которые они прививают: «патриотизма», «верности», «долга», «соблюдения правил игры», «духа школы» и тому подобного. Но если содержание британского патриотизма или «американизма» было явно плохо очерчено (хотя некоторое уточнение достигалось с помощью комментариев по случаю исполнения ритуалов), то ритуалы, символизирующие это содержание, были воистину принудительными. Так, и при исполнении государственного гимна в британских школах, и при подъеме флага в американских надо обязательно вставать. Ключевое значение этому придавалось, видимо, чтобы разработать эмоционально и символически заряжающие знаки принадлежности к клубу, а не устав и цели самого клуба. Значимость этих знаков заключается как раз в их расплывчатой всеобщности.
Государственный флаг, гимн и герб — три символа, посредством которых независимая страна заявляет о своей идентичности и суверенности. Как таковые, они немедленно внушают чувства уважения и преданности. В них отражаются полнота прошлого, национальной мысли и культуры12.
В этом смысле один наблюдатель был прав, заметив в 1880 году: «теперь солдаты и полицейские носят свои знаки отличия для нас». Правда, он не предвидел, что в эпоху массовых движений, которая была уже не за горами, эти знаки снова станут принадлежностью обычных граждан и.
Второе наблюдение, представляющееся мне очевидным, заключается в том, что, несмотря на их многочисленность, изобретенные традиции не заполнили и малой части пространства, освободившегося вследствие векового упадка старых традиций и обычаев. Впрочем, этого и следовало ожидать в обществах, в которых прошлое в возрастающей степени становилось все менее подходящим образцом для многих форм человеческого поведения. В частной жизни большинства людей и в самодостаточной жизни маленьких субкультурных групп даже изобретенные традиции XIX и XX столетий занимали и занимают куда меньше места, чем старые традиции занимали в жизни старых аграрных обществ14. В XX веке «то, что было*, определяет структуру дня, времени года или жизненного цикла западных мужчин и женщин намного меньше, чем то было у их предков, и намного слабее, чем то делают внешние импульсы, рождаемые экономикой, технологией, государственной бюрократической организацией, политическими решениями и другими силами, которые и не опираются на «традицию» в нашем смысле этого слова, и не развивают ее.
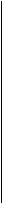 Это обобщение неприменимо, однако, к области публичной жизни (включая сюда до некоторой степени и общественные формы социализации, такие, как государственные школы и масс медиа). Нет никаких реальных признаков того, что неотрадиционные практики, связанные либо с деятельностью сообществ людей на государственной службе (в вооруженных силах, судах, возможно, и в общественных службах), либо с гражданством, ослабевали. Ситуации, напоминающие людям об их гражданстве (например, выборы), постоянно ассоциируются с символами и полуритуальными действиями, большинство из которых — флаги, изображения, церемонии, музыка — являются изобретенными историческими новшествами. Поскольку традиции, возникавшие после промышленной и Французской революций, заполняли имевшиеся пустоты, они оставались в силе, во всяком случае, до настоящего времени.
Это обобщение неприменимо, однако, к области публичной жизни (включая сюда до некоторой степени и общественные формы социализации, такие, как государственные школы и масс медиа). Нет никаких реальных признаков того, что неотрадиционные практики, связанные либо с деятельностью сообществ людей на государственной службе (в вооруженных силах, судах, возможно, и в общественных службах), либо с гражданством, ослабевали. Ситуации, напоминающие людям об их гражданстве (например, выборы), постоянно ассоциируются с символами и полуритуальными действиями, большинство из которых — флаги, изображения, церемонии, музыка — являются изобретенными историческими новшествами. Поскольку традиции, возникавшие после промышленной и Французской революций, заполняли имевшиеся пустоты, они оставались в силе, во всяком случае, до настоящего времени.
В заключение можно было бы спросить: почему историки должны уделять внимание этим феноменам? В определенном смысле вопрос этот излишний: растущее число историков это просто делает, как о том свидетельствует содержание нашей книги и приводимые в ней ссылки. Поэтому вопрос должен быть сформулирован по-другому: какую пользу приносит историкам исследование процесса изобретения традиций?
Прежде всего, изобретенные традиции — существенные симптомы и индикаторы. Без них мы не заметили бы некоторые проблемы, не смогли бы установить и датировать некоторые изменения. Они — свидетельства. Трансформация германского либерализма из его старой либеральной разновидности в новую, империалистическую и экспансионистскую, прослеживается более точно благодаря замене к 1890-м годам прежних черно-красно-золотистых цветов, принятых немецким гимнастическим движением, на новые, черно-бело-красные. История финалов Британского футбольного кубка рассказывает нам немало такого о развитии культуры городского рабочего класса, чего более привычные данные и источники рассказать не могут. В то же время изучение изобретенных традиций не должно быть отделено от более широких исследований по истории общества, в противном случае оно мало что даст помимо простой фиксации такого рода практик.
Во-вторых, изобретенная традиция проливает свет на отношение человека к прошлому, то есть на предмет историка и на его ремесло. Ведь для узаконивания тех или иных действий и для того, чтобы укрепить групповую солидарность, все изобретенные традиции используют, насколько это им удается, историю. Нередко история становится настоящим символом борьбы, как это было в 1889 и 1896 году в Южном Тироле, когда там возникало противостояние по поводу памятников Вальтеру фон Фогельвейде и Данте15. Даже революционные движения подкрепляли свои нововведения ссылками на «народное прошлое» (саксы против норманнов, «наши предки галлы» против франков, восстание Спартака), на революционную традицию («Немецкий народ также имеет свою революционную традицию» — Auch das deutsche Volk hat seine revolutionare Tradition, — утверждал Энгельс в первой же фразе своей работы «Крестьянская война в Германии»16) и на собственных героев и мучеников. Книга Джеймса Конноли «Труд в истории Ирландии» являет собой прекрасный образец соединения всех трех тем. Элемент изобретения в этих случаях особенно ясен, потому что история, делающаяся частью идеологии, одним из источников знаний о себе нации, государства или движения, — это не та история, что действительно хранится в народной памяти. Это история отобранная, написанная, проиллюстрированная, популяризированная и в установленном порядке доведенная до людей теми, кто и должен все это делать. Специалисты по устной истории часто замечали, что в воспоминаниях людей старшего поколения всеобщая стачка 1926 года играет куда меньшую и куда менее драматическую роль, чем ожидали интервьюеры17. Уже проанализировано, как Третья республика способствовала формированию имиджа Французской революции18. Тем не менее все историки, каковы бы ни были их цели, вовлечены в этот процесс, поскольку вносят свой вклад, осознанно или неосознанно, в создание, разрушение или переструктурирование образов прошлого, принадлежащих не только миру специалистов, но и общественной сфере человека как политического существа. Они могли бы, как минимум, постоянно помнить об этой составляющей их деятельности. Хотелось бы подчеркнуть особый интерес «изобретенных традиций» для историков нового и новейшего времени. Эти традиции в высшей степени подходят к сравнительно недавней исторической инновации — «нации» и к ассоциируемым с нею явлениям — национализму, национальному государству, государственным символам, национальной истории и прочему. Все это держится на социальной инженерии, зачастую целенаправленной и всегда ведущей к новому, хотя бы потому, что в истории утверждению нового предшествует его введение. Независимо от того, насколько выражена преемственность в истории евреев или ближневосточных мусульман, израильский и палестинский национализмы и нации должны считаться новшествами, так как сама концепция национального государства в его нынешнем виде вряд ли была мыслима в этом регионе сто лет назад и вряд ли могла обрести реальные очертания до окончания Первой мировой войны, Литературные национальные языки, на которых пишут и тем более говорят не одни только немногочисленные элиты, по большей части являются искусственными конструктами, созданными в разное время, но все — недавно. Как совершенно правильно заметил французский историк фламандского языка, фламандский, изучаемый сейчас в Бельгии, — вовсе не тот язык, на котором матери и бабушки фламандцев разговаривали со своими детьми; он только фигурально может быть назван «материнским языком» и уж никак не буквально. Нас не должен вводить в заблуждение странный, но объяснимый парадокс: современные нации со всем их громоздким снаряжением, как правило, претендуют на нечто прямо противоположное их новизне и искусственности, на то, что корнями своими они уходят в глубокое прошлое и являются человеческими сообществами столь «природными», что для их определения достаточно простого самоутверждения. Какое бы содержание с точки зрения исторической и любой другой преемственности ни воплощалось в понятиях «Франция» и «французский» (а то, что оно есть, никто не собирается отрицать), сами эти понятия включают сконструированный или «изобретенный» компонент. И как раз потому, что столь многое из субъективного представления о современной «нации» состоит из подобных конструктов и ассоциируется с соответствующими вполне недавними символами и с соответствующим образом выдержанным дискурсом («национальной историей»), невозможно адекватно исследовать феномен национального, не обратив при этом пристального внимания на «изобретение традиции».
Наконец, исследование процесса изобретения традиций должно вестись как междисциплинарное, объединять историков, социальных антропологов и многих других специалистов, изучающих общество. Оно не может быть проведено должным образом без такого сотрудничества. Настоящая книга представляет в основном вклад историков. Надеюсь, что не только историки сочтут ее полезной.
Т.Шибутани. Социальная психология.*
В массовых обществах люди часто оказываются невольными участниками гигантских взаимодействий, где личный выбор сведен к минимуму. В разгар «маккартизма», например, каждый, кто подвергал сомнениям тактику сенаторов, подозревался в том, что он коммунист, и в результате выбывал из строя. В политике предмет спора, кандидаты и все, по поводу чего индивид мог бы выразить свое мнение, уже заранее предрешено; часто он может голосовать лить за то, что считает меньшим из двух зол. Когда объявлена война, не имеет значения, считает ли гражданин дело своей страны справедливым: ожидается, что он выполнит свой долг. Даже в более спокойное время служащий крупной корпорации должен следовать стандартным процедурам, хотя бы он лично был убежден, что некоторые из них являются идиотизмом.
Хорошим примером характерного для массового общества социального контроля служит движение моды. Мода ни в коем случае не ограничивается женской одеждой. Она может быть обнаружена в искусстве, архитектуре, литературе, философии и даже в социальных науках. Это движение, видимо, оформляется в результате конвергенции выборов, сделанных большим числом людей. Тысячи женщин индивидуально пытаются сделать себя привлекательными, но конвергенция их покупок создает движением. Сопротивляться новым стилям почти всегда бесполезно. В политической революции имеется некто, представляющий правительство и определяемый как враг, но в движении моды свергать некого. Если нарушение конвенциальных норм приводит к возмущению и наказанию, то нарушение моды вызывает скорее смех и сострадание. Отказываясь подчиниться, человек причиняет вред самому себе, но не моде. Когда устанавливается общее направление моды, женщины вынуждены пополнять свой гардероб. Это приводит к широко распространенным подозрениям, что, должно быть, существует гигантский тайный заговор в индустрии одежды, но есть серьезные доказательства, что это не так. Следуя моде, каждый человек невольно содействует ее движению.
Демократизация — еще одна характерная черта массовых обществ. Как отмечал Маннгейм, наше общество таково, что очень большое число простых людей включено в политические процессы невиданным в других обществах образом. Политика не является больше исключительной принадлежностью групп элиты. Законная власть требует поддержки или по крайней мере покорности большого числа людей. Даже диктаторы ограничены тем, что люди соглашаются терпеть. Это значит, что те, кто контролирует каналы коммуникации, находятся в особо благоприятном положении.
По существу, социальный контроль в массовом обществе во многом подобен социальному контролю в меньших сообществах. Основное различие заключается в том, что аудитория, перед которой человек добивается статуса, значительно больше и более обезличена. Например, многие не хотят, чтобы «люди» смеялись над ними. Но кто такие эти «люди»? В основном посторонние. Человек до какой-то степени освободился от контроля своей первичной группы, но он по-прежнему считается с групповыми экспектациями. Многие из этих эталонных групп, однако, велики, аморфны и постоянно подвержены изменениям.
Как и во всех других обществах, люди по-прежнему формируют и поддерживают свои картины мира и Я-концепции посредством коммуникации. Однако доступность и радиус действия коммуникации предоставляет им возможность за-мещающе участвовать в жизни многих из тех, кого они не встречают непосредственно. Важность таких персонификаций не следует недооценивать. Как и в первичных группах, люди приписывают персонификациям экспектации и затем пытаются жить в соответствии с ними.
Э.Ноэль-Нойман. Общественное мнение. Открытие спирали молчания.*
Глава XIII
МОДА - ЭТО ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Человека волнует ощущение того, что он движется в одном направлении с другими, это воодушевляет его. Средства демоскопии сегодня позволяют наблюдать накал зрительских симпатий во время Олимпийских игр или чемпионатов мира по футболу, демонстрации многосерийного детектива по телевизору, когда пустеют улицы, или же восторженное настроение населения, с интересом следящего за триумфальной поездкой по стране английской королевы. Даже предвыборная борьба в бундестаг каждый раз вызывает всеобщее оживление.
Что это — чувство общности, корни которого в историческом племенном прошлом, или состояние безопасности, или способность противостоять, действовать; освобожден ли индивид — хотя бы на какое-то время — от страха перед изоляцией?
Квазистатистический орган как связующее звено между индивидуальным и коллективным
«Никогда не удавалось выявить, как следует понимать соотношение между индивидуальным и коллективным сознанием», — писал английский социальный психолог У. Мак-Дугалл в своей книге «Групповой разум» (1920). Зигмунд Фрейд называл бесполезными конструкциями
представления о коллективных образованиях типа «группового разума» или противопоставления индивида и общества. С одной стороны, индивид, с другой — общество — это, по Фрейду «разрыв естественной связи». Речь не идет о большой массе людей, одновременно воздействующих на индивида. Человек не связан с этим множеством, его мир ограничен немногими значимыми репрезентативными личными связями с отдельными людьми. Эти отношения определяют аффективную установку индивида, его поведение по отношению к целостности. Поэтому для Фрейда «социальная психология» как особое научное поле — научная выдумка.
То, что мы сегодня познаем средствами демоскопии — способность квазистатистического органа воспринимать частотные распределения и изменчивость мнений своего окружения с высокой долей чувствительности, — это, в представлении Фрейда, объяснить невозможно. Своеобразие этих восприятий среды, оценок мнения большинства людей заключается в том, что они практически во всех группах населения резко меняются одновременно2. Здесь должно существовать нечто помимо личных связей индивида — дар восприятия, благодаря которому мы можем постоянно наблюдать за большой массой людей одновременно, т.е. за сферой, которую называют «общественность». Мак-Дугалл явно исходил из предположения о существовании сознания общественности, чему мы находим все больше свидетельств: человек, по словам Мак-Дугалла, действует в условиях публичности, зная общественное мнение.
Квазистатистический орган человека — связующее звено между индивидуальным и коллективным. Имеется в виду не таинственное коллективное сознание, а способность индивида в связи с людьми, их поступками и идеями воспринимать отношения одобрения или неодобрения, отверженности в среде, а также малейшее их изменение, усиление или снижение и соответственно способность реагировать на подобные изменения, т.е. по возможности не обособляться. По мнению Мак-Дугалла, мотивом для этого служит то обстоятельство, что «индивидуальность в известном смысле означает изоляцию, которая вызывает у каждого из нас чувство подавленности, хотя оно не полностью осознается; ко времени образования толпы индивидуальность растворяется»4.
 2015-05-06
2015-05-06 406
406








